ART-ZINE REFLECT
REFLECT... КУАДУСЕШЩТ # 27 ::: ОГЛАВЛЕНИЕ
Андрей БЕЛИЧЕНКО. ТАЙНЫЙ ВИЗИТ «МУМУКШИ» В ЧИКАГО
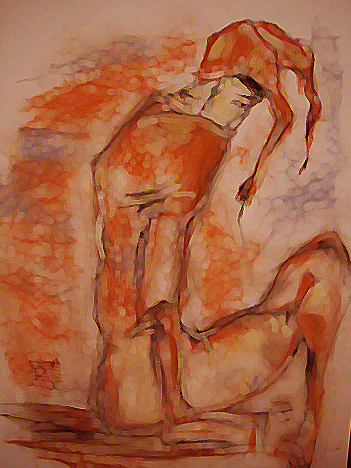
aвтор визуальной работы - Merche
при том или ином участии
Андрея Беличенко и Марии Тындюк
– Как Вам пишется на языке людоедов?
– Не хуже, чем на самоедском.
Искушение безумием
(Отрывок из книги «Море Чу»)
Беспредельное не знает своей беспредельности,
пока не родится в предельном.
Мария Тындюк
Не бойся не узнать конца,
Когда ты видел бесконечность.
Маргарита Черненко
Таким женщинам следует ходить в парандже.
Она была так ослепительна, что я сразу понял – она не отсюда.
То бишь, не из дурки. Я ведь ничего не сказал об опере в Павловске. Ну, вы знаете – дощатый спутник Санкт-Петербурга, скученный вокруг невесомо чугунного Павильона, помнящего летние концерты Иоганна Штрауса-младшего и кошачий глаз Мадельштама. Само по себе гремучее сочетание. Нейтронная бомба акмеизма не сохранила малейших бытовых подробностей. В нашем же случае технически всё выглядело очень просто. Мы использовали убойный, как мир, приём караоке, а в качестве разогрева выбрали инструментальное «Каприччо» Стравинского. Как вам оно? До тех пор я был холоден к этой мартовской визгливости, да и к нему. Экономя неизвестно на что силы, я склонялся к мысли смиренно модернизировать «Тайный брак» Чимарозы, чтобы разом решить вопрос формы и развязать себе руки ради всех наших смыслов. Это был, конечно, намёк на брачный порыв Аркадия, не устававшего трубить о своей Владе так, как будто её безответная душа могла воплотить все его грёзы о Машине и машинном человечестве. И, главное, так, словно все эти сказки были реальны, что, понятно, и должна была лишний раз доказать наша новая старая опера. Что ж, вся история человечества есть не иначе как перипетия его человечности, воспитание чувств, и, значит, в основе того и другого – судьба сокровенного, даже если реализуя его, приходиться, как я, принимать идеальное за абсолютное, или, как он и иже с ним, желаемое за действительное. Представляю, каким надо обладать юмором, чтобы носиться с сущим дитятком, как хотя и с сакральной, но невестой, и при этом иметь вид свободного художника, право имеющего. Славная получилась бы свадьба на сцене. Впрочем, только там она бы и не выглядела абсурдной. Весёлая буффонада плодовитого итальянца с переменой лиц могла бы вывести к неожиданным ситуациям и внутри играющих её актёров, т.е. всех нас. Я ведь тоже надеялся осчастливить Ди чем-то достойным или по крайней мере насмешить её. Всё же пусть минимально, но я думал о ней, как о невесте, хотя и не ради себя, а для неё. Да и Аркадий просто-таки загорелся увидеть в роли кукольно эфемерной Каролины преображённую кукловодом Владу, а в роли ее соперницы-сестры загнанную внутрь своего обречённого бунта красавицу Диану. Блистательное вышло б зрелище. Граф Робинзон, недалёкий жених, Мишель в роли пальмовой ветви – чем не идиллия? Реальный брак не может состояться по причине предшествовавшего ему тайного. Лишь смелость открытия способна соединить День и Ночь, истину и мечту, любовь и страх. Запутанные и непредсказуемые отношения, далеко не безобидные, между полами действительно открывали массу возможностей для проникновения в тайну реального сознания, которое оживало, лишь будучи окроплённым водой воображения. Но я отказался от образов. Рай гармоничного искусства был бы издёвкой даже над нашими мышиными проблемами, за коими мне грезился целый мир. И я вернулся к Стравинскому. Меня сразила его формула «музыка – это вещь-в-себе». Не ждите откровений от реальности, в которой лишь трагедия способна что-то открыть. Ведь то же самое, представьте, я думал и о человеке! Что делает его Другим? Если грань между человеком и нечеловеком так условна, как зыбко само их бытие, если мораль разрушена по причине бездушия всех заинтересованных сторон, то как любить Владу? Как бы это прекрасно звучало в опере! Почему ты меня не любишь? Я такой лёгкий, такой воздушный – меня как бы и нет, но я ведь есть – даже глубже, чем можно подумать. Человек живёт лишь тогда, когда действует вне себя, что возможно как в случае материализации его души, так и тогда, когда его имя живёт отдельно. Естественно, я имел в виду и «Каприччос» Гойи, все эти загадочно-острые афоризмы раненного ума. В них сквозила какая-то веберовская смелость. Надо сказать, судьба Вебера, о нём столь вдохновенно поведал автор «Петрушки», того самого Вебера, что мечтал воскресить Орфея в самом материальном смысле, вследствие чего критика запретила ему под угрозой смертной казни сочинять музыку вообще, тоже впечатлила. Он взял и спятил. А я, поколебавшись, отказался от услуг не менее экзальтированного Чимарозы, не выслушав у него и ноты. Итак, роль «вещи» исполнял бывший футболист, играл в «Стали» нападающим, в расцвете сил (только 25) с несколько сбитым с толку, но удивительно гармонично неправильным лицом, и притом из приличной семьи. Он думал, что с ним никогда не случится ничего такого. А вот случилось. По утрам он смотрел в затемнённое стекло туалета и искал в себе пусть бы и далёкие признаки здравого смысла. «Без-мыслие» досталось Серёге, добродушному малому с церковнославянской фамилией и расплывчатой внешностью, разумный, но всё же расплескавший свою мысль, уставший от собственной нескладухи. Неплохая отмазка. «Беспредельность» играл Шурик, попавший по глупости, ловил зелёных кошек после травы. Да и что ему ещё в его шестнадцать ловить. Я ничего, ясное дело, не играл. Ага, Шурик сказал на группе, что только тут он узнал, что такое боль. Вокруг этого я и построил его партию. А вот соло на саксе нажаривал Эдик, влюблённый компьютерщик, которого с моей подачи прозвали Энтелехией. Любил он Машу, но называл ее Машиной и был по этой стопудовой причине сдан своей же матушкой, с каковой и проживал. Теперь немного, так сказать, об искусстве. Форма каприччо типична для музыки вообще, наверное, это ее квинтэссенция, и оратории, какой, в сущности, и был наш опус, в частности. По определению Преториуса, каприччо – синоним «фантазии», и представляет собой, как пишет Стравинский в своей «Хронике», «музыкальную пьесу фугированного склада в свободной форме. Эта форма давала мне возможность развивать мою музыку, чередуя эпизоды различного характера, следующие друг за другом и придающие произведению ту капризность, от которой и происходит само название». В общем, то, что нужно. Впрочем, узнав, как его музыку используют, автор ее, мягко говоря, не был бы на седьмом небе. Хотя на пятом ему тоже было неплохо. Кстати, наш сюжет воплотил все смыслы китайского «ли» – церемония, ритуал, почтительность, благопристойность. Всё это было у Ли, и как следствие – странное высокомерие ритуального меча в его непостижимо упрямой природе и не очень-то мужском характере. Кстати, в «Книге перемен» триграмма «ли» означает смычку, выявление, огонь и вторую дочь. А вообще, так, между нами, «ли» – это просто «карп», священная, конечно, рыба, но ведь рыба. В тайне от своих друзей, да и от себя, я надеялся, что вежливое обращение с непостижимым откроет его тем, кто ничего такого и не думал. Ли и Андрэ привлекались в смысле декоративности истории, ну и сам Павловск, конечно – чем не герой? Под голубоватым солнцем сиятельного сентября, или лютый, студёный в позднем декабре, когда позёмка слепит глаза и мир кажется беспросветным навек, или того хуже, обыденный и бездушный, как законченная осень мутных небес, серая, как душа Асмодея, но и дерзкий, молодой, бросающийся во все тяжкие, лукавый, весенний, уже полуприкрытый первой робкой листвой, если идти сквозь него беспамятной дорожкой, соединявшей старое еврейское кладбище с ещё более старой православной церковью на холме. И поскольку главная идея нашего опуса была более-менее ясна, я мог спокойно предаться её лицу. Трусливое перо не решалось его ласкать. Её вид внушал и уважение, и опасение. Носи она длинные волосы, она могла бы напоминать Мэрайю Кери, американскую поп-диву (с той же песней под каблуком у мужа, кабалой таланта, бегством и прочей эмансипацией Мими). Я бы не сказал, что форма её коротко остриженной головы безупречна, что могло бы насторожить любителя отгадывать характер по головным шишкам, лоб скорее мужской и профиль тоже, но ощущение лёгкости, которую можно назвать женским обаянием, удивительно не совпадало с основными симптомами её главного заболевания, или того хуже – с её кармой. Трудно поверить, но, живя в облаках, она никогда не ошибалась. Даже когда сказанное ею мимоходом походило на явную околесицу, запоминавшуюся как раз тем, что не лезло ни на какую голову, спустя время, столкнувшись с ещё более отвязной реальностью, вы невольно вздыхали – а ведь она была права! Возможно, эта проницательность производила впечатление хитроумия, сама близость которого со свободной стихией природы вынуждала сделать вывод о её беспрецедентной влюбчивости. Ей всё чудилось То. Свидетельствую: по ней пробегало неуловимое и почти физическое наслаждение миром, принимаемое ею за самое её я, и чувствовалась какая-то зловещая справедливость в том, что её покровительство убогим привело её, в конце концов, в убогий дом. Следуя той же логике, она непременно стала бы ангелом во плоти, когда бы не необходимость хранить своих кукол. При всём том она и мысли не таила выглядеть карой мужчин или кого-то ещё. По ней нельзя было сказать, что на расстоянии вытянутой руки от неё горят опасные огни, возможно, и придающие её внешности столь рискованную привлекательность. Она была сама не своя от возбуждения, так что почему-то подумалось – будто родилась наша дочь. Я ничего не понимал, но не боялся – просто смаковал свободную человечность этого «зеркала моей души». Посторонние лишь усугубляли сцену. Молодая соблазнительная медработница с густыми золотистыми волосами, мелко вьющимися в снегах халата, как праздничная кольчуга имперского гвардейца, и к тому же рассыпанием дразняще колышащимися при ходьбе, я даже подумал, что у неё на спине какой-то дикий пушной зверёк – в общем, она нежно наблюдала за нашей вознёй, каковую считала реализацией хартии Розенберга и принципов Вандерфельда-Рахлина. Да, совсем забыл – роль «бесподобного» досталась какому-то штемпу-недоростку, загадочно несчастное создание, загнанное на дерево собакой памяти и другими злыми людьми. Он писал дистрофические стихи и сам был дистрофиком. Кажется, он строил из себя большого оригинала, заявив как-то, что мудрости нет, а есть лишь правда. Впрочем, мало ли кому что придёт в голову. Я взял его архаично косноязычный текст в качестве его же партии, лучше придурка ведь не придумаешь. Во время тихого часа мне приснилось, как он гонится за мной, догоняет, и когда уже совестно и некуда деться, выясняется, что он – это я. Впрочем, кто ж этому поверит? Что-то изысканно странное есть в радости, струящейся из глаза красивого человека, даже если он один, когда он наслаждается красотой Другого. Хотя бы и когда другие его ненавидят. А их было две! И обе Даны, только одна – она, Дана-Диана, а другая та, что разводила собак, Дана-Богдана. Садизм использовать их в дуэте. Она говорила и говорила, она давилась словами от счастья – наконец, я, было, уже совсем неприлично показал ей язык. Она говорила, что всё от Боженьки, что всё хрупко, что всё бессмысленно, не замечая, как противоречит себе, и потому только всё прекрасно. Меня мучила ревность: ей было прекрасно без меня, я – я! – был ни при чём – даже в глубине своего собственного творения. Это всё равно, что строить храм Аполлону и поклоняться реке. И раздражённо думал, что, может, и Бог используется ею, как защита от моего жестокого таланта, ведь Он, а не я сочинил сочинителя. Логика (и тут она) явно не земная, как и их партия. Они пели, будто слепые, и жалко лезли из кожи, некрасиво напоминая дебютанток на «Песне года», сгорая от желания понравиться в этих жалких больничных халатах до пят и без следов косметики. Я взбесился, а тут ещё детёныш. Откуда же он в самом деле взялся в этом монастыре? И надо же – восьмого! Моё число. Но ведь января, января же! Да что же это такое?! Приуноешь. От неизвестности, от непостижимости, от неуверенности, от сбитости с толку и той радости, что обращает в камень. Так всегда, когда твой. Действительно – когда речь идёт о душе, всё выходит не так. Но не будем о грустном. Кто ещё решится в здравом рассудке прочесть эти заметки чудоведа? Значит, ты намерен решить свои мировые проблемы, переложив их с больной головы на здоровую? Сюжетный выбор не велик – или ты признаёшь истину и, преследуя сразу двух героинь, смиряешься с единственной неправдой мира – его реальностью, или упорствуешь в своём безумии, жаждуя иной мирности, чем та может быть у любого мира, ждёшь, пока ребёнок заговорит, и сидишь до последнего звонка. Но Ли знает русскую литературу, и ему можно верить. Его же вердикт краток – это та.
Не сразу, но спустя какую-то дикую минуту я смутился. До меня, наконец, дошла ответственность автора. А ведь чудовищная артикуляция мечты (кто, пытаясь защититься от себя, не мечтает?) мешала мне даже слушать. Я лишь следил за игрой моих героев, стыдясь их фальши, которая на самом деле принадлежала мне и которую они столь доверчиво воплощали. Сделай нас хоть капельку реальнее! молили их глаза, когда губы бормотали навязанный мной метафизический бред. Не мог же я действительно так быстро превратиться в эту женщину, что приковывала меня к себе тем больше, чем всё глубже погружалась в свою тьму? Ее немота обернулась в чугунную решётку зимы, что, разделяя нас, неумолимо тянула столь далёкую пару на дно. Но это более чем падшесть. Неужели даже то самое рождественское дитя не могло нас спасти? Очень мило – подбросить младенца в дурку. Тут даже символ некий, загадочная оптимистичность метели. Короче, надёжный приют, что да, то да. А где ещё искать в этом мире покой, как не на дне, что дороже искренности? Неужели упрямо искомое этой неподкупной оригиналкой То в одночасье стало «то» и нас с Ли? И правда, разве выраженное способно остаться или стать скрытым? Нет, мы точно поехали. И вот, когда мир-нуя все проволочки и сомнения, ну да, миру – мир, и палки в колёса, вещь совсем уже была беременна и даже очень, и в той волшебной и провиденческой паузе, что разделяет слово от тишины, уже летали похожие на глянцевых глеваховых стрекоз ангелы, что-то лопнуло и раздался оглушительный полуживотный вопль Венечки. Непонятно, как его отягчённый недугами и неподвижностью организм мог издавать эти душераздирающие и непостижимо пропорциональные рулады. Мы опешили. Да что там, даже невидимые и питавшие всех нас неведомостью прожорливые гении оторвались от своей пищи богов. Настала какая-то вселенская оторопь. Наверное, Венечка сам смекнул – только чем? Изида, мни! – что что-то не так, мол, несколько переборщил. В общем, внезапно истошные крики утихли и, окинув нас мутным взглядом, он только беспомощно и немного виновато хныкал. Кто-то с интеллигентностью Дракулы заметил, что чистота кошарного индюка сочеталась в нём с редкой неразборчивостью. Два союза «эс», сцеплясь, венчали нашу безответность. Что ещё, по-вашему, позволило ему созерцать завоевание Павловска фашистами и не спятить снова? Эти без малого семьдесят лет не оказали на него ни малейшего воздействия. Впрочем, как и на египетские пирамиды. Его выпуклые водянистые глаза не различали между вещами и смыслами, что само по себе ставило его над всем мирозданием знаков. От падлюки, дали ж знову старику яблочек, а вин, мабуть, ожерся. Венечка жалобно показывал пальцем на свой монстрообразный живот, и его нижняя отопыренная губа красноречивее нашей музыки пела о несовершенстве мира сего.
Философема Книги позволяет, различая мир и реальность, представить их последовательное превращение один в другую. Это схоже с тем, как, различая бытие и присутствие, живущий в реальности получает возможность представить саму мирность исходного для всех всё ещё бытеющего в реальности мира. Причём представить непосредственно, так как используемый в этом мировом акте образ одновременно и есть реальность. Так образ становится не изображением сущего, а его онтологической программой и трансцендентной реликвией. Этим образ и делает мир реальностью. С позиций мира как Книги безнадёжность не существует, так как Книга – самый оплот надежды, ее зримая вершина. А с вершин реальности она, безнадёжность, только и должна существовать, чтобы доказывать реальное существование самой реальности. Так реальность и оправдывает свою безнадежность, и снимает ее. Но уже ценой своего распада.
Искомая теория реальности, позволяющая человеку совладать с самим собой и реальностью, после чего начать надеяться, основывается на том, что образное представление (воображение) сущего (существующего) как его бытийное пред-ставление, т.е. предпослание образа бытию сущего, в то же время есть и установление этого образа в качестве начала последующей эволюции сущего в сторону надежды. Вообразить сущее значит образовать его через образ. Лишь второе рождение, начинающееся смертью, истинно. Вот почему в воскрешении скрыта идея подлинности и последней завершённости. Именно воскрешение воплощает все тайные цели жизни. Именно оно и есть жизнь. В этом образовании через образ реальности, сверкающем и после её распада, онтогенетический смысл образа, центральный для разрабатываемой тут имагинативной (грубо говоря, образной) интерпретации книги и текста.
Но ведь ты не сделаешь этого, Веня?! Его жабьи глаза так велики, что веки не могут их до конца закрыть. Мы стоим вокруг него, как прихожане вокруг священника, и чего-то ждём. Неунывающая Петровна подносит ему подкидыша, умилительную Владу, и он, как ветхозаветный пророк, не открывая глаз, значительно принимает в свои большие руки этот подарок судьбы и благословляет. Даже отсюда видно, как его тело медленно становится неизвестным ископаемым. Необъятным в своём отчуждении от нас и всесильным от наших подозрений. И тут дверь распахивается, и во главе свиты является императрица. Я должна представить вас вашему новому доктору.
Ан от Ан
нежные поляны молят посмотрите ещё, там
у травы стянуты руки, мурашки робеют выступать
когда Вы курите на улицу с длинным названием Рай
сдается мне, что фаллос-альбинос
слегка помеченный помадкой модной с краю
входит в мое ноябрьское мглистое сердце
оставляя дым обещания
которое я не могу выполнить
поскольку в Вашем перспективном рту горит соперник
Ваш и мой
по проективной геометрии засыпающего тела
я Ваше счастье, шепчу я, убедившись, что Вы уснули сразу
ранним голосом кино Ренуара - и выдыхаю нормальный цэ о два избранника,
не подчиняющийся походке пьяного мачо с бульвара Капуцинов,
зато страдающего достойным недугом величия и манией нищеты.
Конечно, когда едут музыканты, следует говорить громче.
Я же джазирую слэнгом: Госпожа,
я собираюсь в путь, проживающем взгляды Вас внове.
И ещё, совсем непонятно:
курите поменьше. Оставьте курию мне.
Затмением забыться о
Стегает бред язык и волосы ведут к реке и в рыбу
Молчание одно свежо
Ведь точная рифма равносильна ожогу
Мир остановился на шаге восхищенного повесы,
Уличённого во взгляде на Вас
А лысые луны уходят красть зеркала и расчёски
Я забыт Вами в Вас.
Вы дерзко светлы, как стих, что строчит заботливый раб
Не зная ничего, кроме больного слова «о»
От обожанья к обожженью улица
Еще короче горы, на которой уснул мальчик Выдра
Ах, невежественный рот тянется
Сквозь мировую словесность
Произнести о – дайте ему копию камеи вместо копья
Чтобы каждый одним
А вместе двумя мы увидели
Как я спешу к себе, чтобы
Зримое стало единственной вестью молчанья
И вдоха.
Вид одетых в сиянье манекенов бикини
Пугает меня наважденьем упущенных снов, нос
В тревоге смятенною мыслью Пегаса: лететь
На витрины с открытым забралом и белым пером
Добрый кретин Какаду, выпей мой яд утешенья
Видишь, как мне знобят лица её, что добры
Приближеньем к голой реке, я краду
То, что ещё можно украсть
Серьёзную страсть к языку
Ведь сказать, не подумав, живу
Столь же отважно, как сделать
Из поцелуя в щеку небывалое солнце
Скульптура молчит в свой рожок
Небо тлеет, что день ещё будет, когда
Ещё минута - и сумерк всему
О, бывает ли кожа звезды
Так доверчивей тех, кто боится
Случайного звёздного взгляда - в просвет
Ажурных из лести ворот в контражуре виденья
Мы видим лишь труд фонаря, он хорош
А слышим всё сочетание измученной речи
Поскольку уши и души чисты
Как тенью высокий каштан, ему
Я даю на сто грамм. Мне моих девять всегда не хватает.
Он вещает в ответ мне словами великой актрисы,
Лишенной катастрофой времени щеки, с именем Чайка
Караваева фамилия ей, Чапмэн по мужу и камню.
Но камень простыл, а она говорит за каштаном
"горе не тому, кто страдает,
а тому, кто заставляет
страдать" – О!
Заставьте, прошу Вас!
Осужденного не найти Вам послушней
Склонюсь головой, потрудитесь
Казнимый чудо творит – он оживает счастьем палача
Так благ лишь тот по вере финикийской
Кто богу подобен казнить красотой, улыбнувшись едва
Над плечом и срывая реплику трамвая желанья
смутившимся стадом мужчин
Горит во мне же щека актрисы,
уродливо ушедшей в чёрно-белое кино.
И горя нет в страницах горя
Поскольку добрый кретин Какаду их наваял.
А я ласкал свой неподсудный ужас
Коснуться руки, как кинжала
И превратиться с ними разом в птицу
Что одновременно парит
И кричит от полёта
Совсем будто я
Томясь по щеке, что грядет
16.11.2000
Памяти Александра Нестерова и Григория Хорошилова
Зайчик на скуле превращает её в скалу. Скулю. Нивки навеки в неважную пору года, какую я вежливо обхожу, дабы открыться в полдень – здесь, откуда я веду свою интервью – из домашней студии Саши Нестерова. Я думаю о двойном портрете Рафаэля. Удвоение стыдливо, как ложный замах форварда. Открыться или укрыться? Не важно. За окнами юный сад, парки, робкое дыханье, ноги журавля. В ней есть что-то от ангара авиатора, решившего испытать себя твёрдостью молчания. Впрочем, какой ангар? какой Колизей? обычный украинский дом, частный сектор. Саша молчит. Играют пальцы огнями, только неслышно. Вам неслышно, а мне просто совестно: я рядом и мне только интересно. Спустя квартал начинается Китай Григория Хорошилова. Тоже мелодия Пустоты с изгибом забывчивых волос. Возвышенность, украшенная его трипольской глиной на ножках.
Эти люди мой полюс, совмещённый с фокусом моих педантичных (чуть не сказал: античных, но не сказал) очков. Глаза сходятся к носу – в точку, как у пушистого зайца, переживающего за судьбу деда Мазая. Не знаю, понятно ли это у антиподов более, чем в Чикаго. Мир тебе, музыка!
Что-то не так? А так хочется переступить грань языка и приличия, чтобы они, не видя друг друга в этой жизни, улыбнулись хотя бы в той, как две Моны Лизы – в цветочек и в горошек.
Точность повредила бы моему рассказу. Да-да, их связывала какая-то невероятная невозможность, пускай водяная, но вода, издали казавшаяся странной, как чужое зеркало, и даже злостно выспренной. Но это была не странность или человекобоязнь, посещающая в юности даже мажоров. То была правда человека-в-яйце. Мне хочется размножаться подобно лесной жабе, чтобы мириады живых существ запели на весь мир об этом двойном одиночестве с собой, об этих тружениках жизни, о которых никто не вспомнит на их совместном столетии, а я не забуду и на первом.
Однажды мы пили вино в мастерской на Парижской Коммуны с Василием Цаголовым. Вы удивлены? Ну да, есть чему. Представьте меня пьющим. Но было хорошее вино и добрые красавицы. В моём весеннем мозгу модели ходили нагишом между мольбертами с их более пристойным ввиду искусственности виде на холстах. Я чувствовал себя слегка в бане. Наши живописцы что-то кричали в окно Европе. Василий скромно подписал мне картинку. Он имел на это право. Но не на свою голову. В тот вечер его причёска заставляла меня чувствовать изысканность итальянских ловеласов, уставших от побед и воздержания, смуглость, загадочность глаз, скрывающих увиденное в дымке осенних кипарисов. Он мечтал наводнить Киев оружием и проститутками. Но кто-то вместо него выполнил лишь последнее. В конце концов вместо всех своих угроз сумасшедшим музам, которые мы ему простили из-за полуприсутствующих дам, он на следующий день взял и подстригся, банально снял волос. Как ты мог! Отрастёт, бросил он мне. Конечно, отросло. Только куда девалась Италия! Впрочем, и Парижской Коммуны той давно нет.
Саша и Гриша были героями тех подпольных баррикад и сочиняли, как правило, оба этюды. Возможно, и моя праздность мелькнула в музыке одного и стихах другого необязательно и дико, как самый рок. Который их и связал поверх их абсолютного прижизненного незнакомия. Я терпеливо высиживал в минуты непринадлежности ничему что-то похожее на письмо, а родились они – как мир из яйца, которое мне подкинули, как звёзды кукушке.
6.06.2006
следующая Сервий Юлий МAKPOH (Василий Сергеев). ПРАЗДНИК ТАММУЗА
оглавление
предыдущая Инна ИОХВИДОВИЧ. ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ЖЕНЩИНЫ
blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah
πτ
18+
(ↄ) 1999–2024 Полутона
(ↄ) 1999–2024 Полутона
Поддержать проект
Юmoney