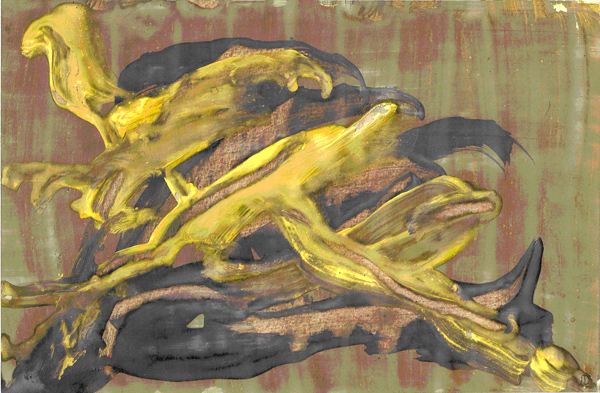Рефлект...куадусешщт #32
ИРИНА ДОБРУШИНА. Степь и горы
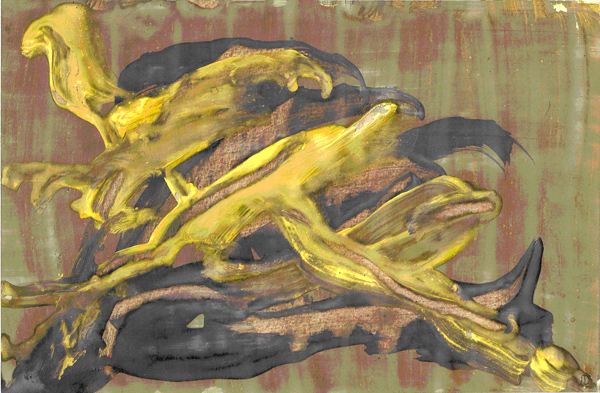
Автор визуальной работы - Irina Dobrushina
ОХОТА НА ЛЬВИЦ
Памяти
В.Г.Вейсберга
Я сижу в полутемной пещере
на каком-то, кажется, мраморном, ложе.
Оно покрыто большим количеством шкур и ковров.
Разбросанные кругом подушки
я подтыкаю вокруг себя,
чтобы удобнее было сидеть.
В пещере где-то справа и сзади много людей,
но я на них не обращаю внимания:
так меня захватывает то, что я вижу
сквозь высокий и узкий пролом в стене.
Это синее,
неправдоподобно синее небо,
и на его фоне гребень горы,
опускающийся вниз справа налево
прямо передо мной.
Чуть ниже гребня,
почти повторяя его рисунок,
идет узким барельефом тропа.
Она на каких-то участках горизонтальна,
на других делает легкий скачок вниз.
Перепады эти без острых углов,
как хорошо обкатанные морем камни.
По этой тропе ходят львицы на водопой.
- Не будете ли вы начальником охоты? -
услыхала я женский голос.
- Хорошо. Согласен.
- Вот это я люблю!
Не надо никого уговаривать
и что-то объяснять. -
Охотники устраиваются где-то позади меня:
через щель в стене пещеры
они будут стрелять.
Но вот появились львицы.
Как странно они движутся по своей тропе.
Они прилегают к ней плотно-плотно
и как бы скользят по камням.
На сбивах тропы они не делают скачков,
а медленно перетекают,
прижавшись к почти вертикальным участкам.
Но вдруг пролетела стрела,
раздался выстрел -
началась охота.
Львицы погибали молча,
падая куда-то вниз,
и погибали почти все.
Наконец, их больше не стало.
Все кончилось.
Я сидела, как в трансе,
перед проломом
и долго не могла даже пошевелиться.
Вроде и не было этой страшной охоты
в неравных
(а когда она бывает в равных?)
условиях.
Охотники разошлись,
и я осталась одна.
И, наверное, навсегда
запечатлелся во мне этот пейзаж:
ярко-синее небо
и оранжево-красный песчаник тропы,
повторяющей в основном рисунок гребня,
и текущая масса львиц,
погибающих просто так,
для забавы каких-то людей.
ДВЕ РОЗЫ
Сегодня я одевалась особенно тщательно. Приняла
хвойную ванну: люблю запах свежего тела. С наслаждением
растерлась жестким полотенцем; кожа покраснела, пятна
выступили у шеи и на груди. Надушила трусики и живот,
потом под мышками. Оделась. Белье я люблю хорошее, мое
неплохое, но бывает лучше. Затем надела юбку и блузку. В
последнее время я чаще ношу юбки с блузками: сменишь
блузку и, хотя юбка прежняя, кажется, будто новый наряд.
Причесалась. Напудрила лицо и, послюнив палец, стерла
пудру с бровей и ресниц. Теперь надушить волосы, шею и
руки. Духи приятные, но не стойкие. Скоро выдохнутся,
останется только легкий-легкий запах. Я почти готова. Чулки.
Туфли. Сумка. И я ухожу.
Я медлила, одеваясь. А теперь бьется сердце, и я волнуюсь
и спешу. И кажется, что мое волнение слышно в телефоне.
-Это я. Ты узнал меня?
-Вера, ты?
-Да. Я соскучилась.
-Как дела?
-Ничего. А твои?
- Так-то и так-то.
-Приезжай.
-Сейчас еду.
Почему я должна притворяться? Я ждала этого звонка, этого
приглашения, я оделась для него и я еду. Я не знаю, что и как
будет, но сейчас я куплю две розы, и это будет для нас.
Он встретил меня, как условились, у метро. Я нервничала и
сказала, что, может быть, погуляем.
-Нет.
-Я не капризничаю. Нет. Мне трудно.
-Понимаю, но пойдем.
-Хорошо.
И мы идем. Все время думаю о розах, которые лежат в
сумке, и как я их отдам: я не знаю, что и как будет, но пусть
сейчас будет хорошо.
Мы пришли. Мы так долго скучали, и теперь мы
вместе. Как было? Сначала плохо, потом средне, а потом...
Потом я была счастлива, и мы поцеловались.
Потом он провожал меня и о чем-то рассказывал, а я
думала: вот неделю тому назад мы шли той же дорогой, и он
обнимал меня, а сейчас нет, потому что мы были вместе. И я
не захотела идти всю дорогу пешком, и он посадил меня в
троллейбус и даже не поцеловал мне руки. И был счастлив, но
не понимал, что со мной, и спрашивал, почему я грустна.
А на следующий день я тосковала и стремилась к нему,
и мы гуляли, и он был влюблен и дрожал, и все целовал меня,
но нам некуда было пойти, и мы сидели на скамейке на
бульваре до двух часов ночи, и он проводил меня до дому, и
мне было хорошо.
А потом мы говорили по телефону и не виделись
несколько дней, а когда увиделись, то снова были вместе. Но
мне уже не было так хорошо. Что-то мешало. Но я успела
привязаться, и один раз была счастлива, и после мы
поцеловались.
И теперь, возвращаясь, домой, мы говорили о разных
вещах, и снова он посадил меня в троллейбус, и снова не
поцеловал на прощанье. И думал, что я на что-то сержусь, но
я не стала ему ничего объяснять.
А сейчас я его не хочу, и мне грустно, потому что я
была влюблена и надушила тело свое и трусики, и каждая
клеточка моя рвалась к нему. И когда я сейчас это пишу, то
снова переживаю этот трепет.
Вероятно, мы еще будем вместе. Я звоню ему каждый
день. Почему? Я очень привязалась, но чувствую, что уже что-
то не так, и знаю: это «не так» будет тянуться долго.
И мне жаль трепета, биения сердца и тех двух роз,
которые были только для нас.
МОЯ СЕМЬЯ
Хелле, Борису и Генриху Шапиро.
У меня большая семья: сестра-близнец Несси, старший
брат Генрих, мама Хелла и папа Борис. Кроме того, у нас дома
всегда живет много людей. Они меняются, и я не сразу
понимаю, кто из них - свой. Но, когда пойму, то уже не путаю.
Одни из них гуляют со мной и Несси, а другие - нет. Но все
равно, я их люблю.
Больше всего мне нравится гулять. Особенно за городом, в
лесу. Мы с Несси бегаем, играем, иногда, как говорят папа с
мамой, "охотимся". Я не совсем знаю, что это такое. На самом
деле, я играю. Иногда в лесу я встречаю собак, которые очень
похожи на меня, но мама Хелла почему-то их называет
"косули" и берет нас с Несси на поводок. Это не совсем
справедливо: ведь не берет же она на поводок Генриха, а он
такой же член семьи, как и мы. Может быть потому, что он
старше и больше.
Папа и мама любят рассказывать про нас разные истории.
Я слышала, как мама Хелла говорила о том, как мы с Несси
выясняли, кто из нас главный. Несси больше меня и сильнее,
но я умнее, а она меня покусала, но я все равно не
испугалась ее, укусила в нос, положила на нее лапу, и тогда
Несси поняла, что меня надо слушаться.
Мне необходимо следить за всем, так как взрослые часто
забывают, что им нужно делать. Мама про меня тогда
говорит!: " Бро бдит". Иногда приходится взрослым
напоминать, что время гулять или есть. Я выбираю того, кто
здесь главный, и показываю ему, что уже пора.
Однажды мы гуляли в горах, и я с Несси выбралась вниз на
луг. Вдруг передо мной появился "заяц " (так его назвал
папа), а я побежала за ним. Он стал петлять, но я рассчитала,
как он будет бегать, и встретила его и придавила лапой к
земле. Он испугался, но я решила его успокоить и стала
вылизывать. А он был тихий-тихий, не шевелился и не играл.
Когда я его отпустила, он долго сидел передо мной, смотрел
на меня и не двигался. Потом мне это надоело, и я вернулась.
Где в это время была Несси, я не знаю. Папа мне ничего не
сказал, но был очень не доволен моей игрой с "зайцем". Не
знаю почему. Я же его не кусала и не пугала.
Сейчас к нам приехали Ира с Володей. Володя гуляет с
нами, а Ира - нет. Но напоминать об этом надо Ире. Она
лучше "бдит".
Наверное, они тоже уедут. Все, кто не члены нашей семьи,
через некоторое время уезжают. И я не знаю, вернутся ли они.
У меня еще есть взрослая сестра Уся. Она уехала давно, и
ее все нет. Папа говорит, что она обязательно вернется. И я
ее жду.
Все "свои" нас с Несси любят и называют "маленькие,
сладкие собаки" или "kleine SuBe". Как видите, мы знаем два
языка: немецкий и русский. Так научили нас папа с мамой.
Бро Шапиро
(собака из Тюбингена).
ЛИНА
В палате спят почти все. Моя соседка Лина, как обычно,
смотрит в потолок. Она всегда засыпает раньше меня и
просыпается раньше. Но старается не шевелиться и лежит
тихо-тихо, чтобы не разбудить меня. Примерно с двух до трех
я оберегаю ее. Но мы не дружим. Кровати почти
соприкасаются и чуть-чуть скрипят. Когда все, кроме нас,
засыпают, мы поворачиваемся, друг к другу лицом и
улыбаемся. Иногда я протягиваю ей руку, и она касается ее
ладонью.
Завтра ее выпишут. Она провела здесь несколько месяцев.
Как и про всех, про нее будет написано, что она отправляется
домой с улучшением. На самом деле это не так. Редкие
волосы Лины шевелит ветер - он дует в наши окна. Сестра
тяжело топает по коридору и с силой щелкает замком -
бережет наш покой. А после пяти утра она и дежурные
нянечки завалятся отдыхать, а в журнале появится запись,
что в отделении ночью все хорошо спали, и никаких
происшествий не было.
В каждой истории болезни время от времени появляются
записи об улучшении нашего состояния. Сестры и нянечки
считают всех больных лентяйками и бездельницами и открыто
ненавидят их за то, что те лежат в больнице и ничего не
делают, а они, несчастные, трудятся.
Лина несколько раз покушалась на самоубийство, и
поэтому ее притащили сюда. Здесь она уже более полугода,
делаeт вид, что с ней все в порядке, и врачи ей верят. У меня
есть ее телефон, хотя неясно, зачем она мне его дала.
По ней "страдает" Галя (как говорят в отделении
"двуснастка"), страдает по-настоящему, так как Лина к ней
равнодушна. Лина равнодушна ко всему и ко всем, и это
хорошо - равнодушие.
Мало кто знает целительную силу равнодушия.
Утром за Линой приходят, она одевается в закрытой темной
каморке, причесывается перед карманным зеркальцем
медсестры. Боже, как преображается женщина, вылезши из
больничного халата.
Я пишу, пишу и боюсь поставить точку. А дело в том, что
через несколько дней, очутившись дома, я позвонила Лине и
узнала, что ее больше нет.
ГУБКА
Железнодорожный вокзал. Ночь. Мы сидим на лавочке.
Точнее: Миша сидит и спит, а я пытаюсь лежать и отдохнуть.
Кто-то, не то милиционер, не то работник связи, каждые 15
минут проходит между лавками и стучит чем-то
металлическим, не давая людям спать и лежать.
"Садитесь, уберите ноги со скамьи", кричит он и стучит все
громче и громче, подходя к нам. Миша не шевелится и сидя
спит, меня же человек толкает, я убираю голову с Мишиных
колен и сажусь.
Мы прилетели вечером в Каунас смотреть Чурлениса, и ни в
какой гостинице нам не удалось зацепиться.
Скоро утро, я бужу Мишу, мы приводим себя в порядок и
уходим.
Редкое для Прибалтики утро. Нас двое, нас ждет Чурленис
и будущее.
А я устала, и иду кое-как, и не хочется, есть, и настроение
паршивое. После какой-то забегаловки усаживаемся на
бульваре. Начинает просто скрести. Такую авантюру, не бог
весть какую, лучше проводить одной. Предвкушению
Чурлениса, которого я видела только на репродукциях,
мешает необходимость общаться. С Мишей всегда надо
помнить, что и как сказать, и это тяготит меня. Сколько раз я
напоминала себе, что я - не подарок, а хочется сбежать, хотя
влечет меня к нему чрезвычайно.
Но вот раздражение перехлестывает все, и в ответ на
невинную фразу я говорю
-Уйди.
-Почему?
-Не знаю. Уйди! Я хочу быть одна.
После непонятной перебранки он уходит, а я сижу и смотрю
в небо. Постепенно в голове проясняется, и я бросаюсь за
ним вдогонку. Его нет. В конце бульвара я поворачиваю
обратно и сажусь на ту же скамейку.
Значит, так. Я прилетела в Каунас одна, и, когда откроется
музей, пойду к Чурленису. Я успокаиваюсь, мне кажется, что
одиночество, о котором я всегда мечтаю, приходит, наконец,
ко мне. Но где-то легко, легко скребут на душе кошки.
И вдруг передо мной Миша.
-Как я рада!
Взяв его за руку, я встаю, и мы идем в музей. Проходя
мимо аптеки, заходим туда, и я покупаю губку, настоящую
греческую губку, не виданную мною раньше. Она маленькая,
но Миша говорит, что от воды она разбухнет и станет
большой.
В залах никого нет, мы долго бродим от картины к картине.
Уходить не хочется.
Наконец мы на улице, идем к фуникулеру, поднимаемся
высоко над городом.
-Смотри, какая базилика!
Я смотрю. Я счастлива. Но пора лететь обратно.
Через несколько дней я провожаю его в Москву. По
дороге домой он заезжал на Рижское Взморье. "Только жалко,
что был один. Все время вспоминал Каунас". Читая, я слышу
его интонацию.
В Москве он просит подарить ему губку, мне почему-то не
хочется, но я отдаю ее.
Интересно, как долго живет мертвая губка?
ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ
("Красное и черное")
- Если б я тебя не родила, моя жизнь сложилась бы
счастливо, а так она сплошь поломанная.
- Мама, я в 13 лет поняла, что твои нападки – чистейший
шантаж, но не догадалась, что это будет продолжаться всю
жизнь.
- Нет. Если б не твое рождение, я бы еще в Харькове
вышла замуж за Гришу Гриневича или позже в Москве за
Леонида Михайловича.
- Ну, и что ж я такого сделала, что ты этого не
осуществила?
- Не сделала, а родилась, вот я и мыкаюсь с твоим отцом.
- Во-первых, я родилась исключительно по твоему, а не по
моему решению. Да и с отцом ты не мыкаешься, а вы оба
отлично свою жизнь отладили, я-то при чем?
- Если б ты не родилась...
Я в гневе:
- Кончай чепуху молоть!
- Если б ты не родилась...
Я в ярости стягиваю скатерть со всей посудой на пол.
- Сейчас всю посуду побью!
- Ну, конечно, у меня, а не у себя.
Я влетаю в свою комнату и начинаю методически бить всю
посуду, потом к ней, и продолжаю то же занятие. Замечаю, что
мама тщательно одевается, берет ключи и сообщает, что
уезжает жить к подруге – Нине Дометьевне.
- Если б ты была в аффекте, то поехала бы в чем была, а то
и красоту навела, да еще сообщила, куда поедешь.
Мама уходит.
До Нины Дометьевны максимум полчаса езды, а мама – я
знаю – докатит на такси. Через 45 минут звоню маминой
подруге.
- Я не могу позвать твою маму. Она мне сказала, что ты
будешь звать ее обратно.
- А я и не зову, но передайте ей, что нечего в семейные
разборки втягивать пол-Москвы. Я держу в руках молоток, и
если она через 5 минут не будет у телефона, то я разбиваю
зеркало в ее шкафу. А она прекрасно знает, как сказала, так
и сделаю.
Мама подбегает к телефону.
- Немедленно возвращайся, перестань огород городить.
Жду час. После этого, если тебя не будет, разобью все
зеркала в доме, а напоследок - окна на улицу (учти – зима) и
уезжаю в другой город.
- А как же твой муж? А кроме того, я вызвала к тебе врача
из диспансера.
- Не твоя забота. Учти, мне надоело слушать, что я
виновата в том, что я родилась.
Положила трубку телефона и огляделась. Веником смела в
две кучи разбитую посуду: у мамы и у себя. Привела себя в
порядок, сложила небольшой чемодан, позвонила подруге в
Ленинград, договорилась, что, может быть, приеду, хотя
маловероятно.
Взор остановился на раскрашенной черным лаком двери
моей комнаты. Абстрактный рисунок кое-где перебивался
ярко-красным лаком для ногтей.
Раздался стук в дверь. Это оказались врач и медсестра из
диспансера. Они вошли ко мне в комнату, закрыли за собой
дверь и уставились на нее.
- Что это? - спросила врач.
- Дверь.
- А почему она такая?
- А почему бы и нет? По-моему, хорошо.
- Хорошо-то, хорошо, но непривычно.
- Заглядывайте почаще – привыкните.
Попили чаю. Врач сказала, чтобы я распаковывалась: мама,
конечно, вернется. И они ушли.
Мама явилась через 10 минут. Проскользнула к себе в
комнату, сказала, что хочет чаю, а чашек нет.
- Пей из эмалированной кружки.
- А у теба ничего из посуды не осталось?
- Нет, ничего нет.
- Ну, и как быть?
- По-моему, очевидно как: покупать новую посуду и не
валять дурака.
Давний друг нашей семьи, Марк Борисович, когда узнавал
об очередной семейной разборке, кивал на портрет красивой
гречанки – моей бабушки с материнской стороны, - и говорил:
- Ну чего ты хочешь, Ирочка, капля грецкой крови, она
бусует.
ТЮЛЬПАНЫ
Вере Сажиной
В больнице я обычно сплю у окна. Больные боятся таких
мест, по их мнению, там дует.
В обычных больницах это не очень принципиально, а вот в
психиатрии – весьма. Дело в том, что из-за перенаселенности
тумбочек нет. А тут – целый подоконник, да и гляди в окно
сколько влезет, а это какая-никакая, но личная свобода..
Весь запас моего здравомыслия и выдержки тратится
сначала на то, чтобы вернули отобранные в приемном покое
очки. После этого – чтобы не отбирали книги. Чем они
мешают, никак не пойму. И, наконец, получить подоконник
для пластмассовой банки, так как в ней практически всегда –
цветы. Сегодня это тюльпаны. Не садовые, а такие, которые я
больше люблю, маленькие, невысокие – степные. Когда они
зацветают, это незабываемое зрелище. Переливается,
волнуемая красным цветом, вся видимая земля.
В палате я просыпаюсь первая или вторая – кто-то
повернулся, вышел – я сплю очень чутко.
Вот и сегодня я проснулась в 4-5, оглядываюсь и вижу: от
проема, изображающего дверь, под кроватями ползет Рива,
старуха-шизофреничка с полным распадом логического
мышления и неуничтожаемой любовью к красоте.
Я не могу сказать: она крадет мои цветы, нет, она просто
без них жить не может.
Я перехватываю ее взгляд на полдороге к моей кровати.
Рива замирает, я грожу ей пальцем. Она разворачивается и
уползает.
На сегодня мои тюльпаны спасены. Рива никогда не делает
второй попытки. После подъема я даю ей цветок, и она сама
расцветает, прижимая его к груди. Так и ходит с ним в
обнимку весь день, и ничего ей больше не надо.
СОН ИНТЕЛЛИГЕНТНОЙ ЖЕНЩИНЫ.
Посвящается Ральфу Дутли*
Я вызван к жизни темнотой
Волшебных снов литературы...
Эдуард Лимонов
Мне приснилось, что мы с мужем долго и обстоятельно
обсуждаем достоинства и недостатки переводов, сделанных
Семеном Липкиным, - переводов Мандельштама на русский
язык.
..........................
* Paльф Дутли – швейцарец, живущий в Париже,
французский поэт и переводчик Мандельштама на немецкий
язык.
ПОЧЕМУ?
Обычный день в конце лета: то ли в августе, то ли в начале
сентября. Окраина Омска. Мне 13 лет. Мы живем очень
близко от Иртыша: квартал от дома, затем поворот направо и
вниз. Дорога пологая и не длинная. По краям спуска
маленькие одноэтажные и двухэтажные дома. Этот берег реки
– низкий. Погода безветренная, ясная, но не солнечная.
Высокие и сплошные перистые облака.
О том, что я пошла купаться, никто не знал. Впрочем,
отношения в семье уже сложились: я была вполне
самостоятельной и не отчитывалась в своих делах.
На берегу разделась и полезла в воду. Плавала я неплохо и
воды не боялась. В том возрасте и раньше я вообще ничего не
боялась, не то что сейчас. Это даже была какая-то патология.
То я разнимала дерущихся взрослых алкашей, а то, однажды,
сцепившихся собак.
И вдруг мне пришла в голову дикая (не могу сказать иначе)
мысль: переплыть Иртыш. Противоположный берег виден не
был, но я на это не обратила внимания.
Словом, я поплыла. Плыву себе и плыву, иногда отдыхаю,
лежа на спине. Вдруг появились волны. Это прошел пароход.
Поднимаясь на воде, я оглянулась: берег, от которого я
плыла, был едва виден. Когда волна спадала, он исчезал.
Противоположный берег так и не появился. И вдруг я поняла,
что еще немного, и я не буду знать, где я, и куда плыть.
Решила возвращаться. Доплыла, обсохла, нашла одежду и
вернулась домой.
О своем приключении я никому не рассказала. Но не
забыла. Оно засело в голове, как напоминание – о чем? Не
знаю. Я пыталась сейчас восстановить мотив моего безумного
заплыва, но неудачно. Помню только этот факт и больше
ничего. Но помню так ясно, как будто это было вчера.
Проходящий по Иртышу пароход фактически спас мне жизнь,
а я ощущаю только некоторую странность своего сознания
того времени.
Мне вообще часто не удается вспомнить мотивы своих
поступков в детстве.
Почему?
СТЕПЬ И ГОРЫ
С детства меня манили зеркала,
Человек в них меняется непрерывно.
Мое зеркало - спутник с 12 лет.
Я вижу в нем степь и горы.
В эвакуации я некоторое время жила в Алмате. Пишу
слитно, как говорят местные жители. По-казахски, если
последний звук первого слова совпадает с первым
следующего, они произносятся как один звук.
Жила практически за городом, за воровским районом под
названием Шанхай, на территории теплоэлектростанции и
консервного завода; это место все именовали просто
территорией.
Почтовый адрес: Ташкентская аллея, от которой до
территории еще нужно было дойти. Она (эта аллея)
начиналась у железнодорожного вокзала, считавшегося
концом города, и шла, возможно, в Ташкент. Это было шоссе,
прямо по краям которого стояли дома. Тротуаров не было, а
непролазная грязь была. Большую часть года приходилось
идти по середине шоссе, чтобы не сбил транспорт.
Если стоять спиной к вокзалу, то вправо от аллеи отходили
три ответвления: тропинка (самая короткая) через Шанхай,
узкоколейка, ведущая к территории и мощеная дорога, самая
длинная.
Ближайшая школа находилась у вокзала. Я начала учиться
там, но в классе шла непрерывная стрельба гвоздями из
рогаток, так что об учебе думать не приходилось. Я стала
искать нормальную школу. И нашла. Она была в центре
города. В то время в Алмате ходил только трамвай по
единственному маршруту: от вокзала до Линий – так
назывались тогда улицы в противоположной части города, в
предгорьях Тянь-Шаня.
Дорога в школу делилась на три этапа: до вокзала, затем
на трамвае до центра, а оттуда пешком до школы. На трамвае
я ездила не часто. Он ходил очень редко, и в нем обычно была
дикая давка, так что не всегда можно было сесть. В худшем
случае (без трамвая) дорога занимала полтора часа.
До вокзала я обычно добиралась через Шанхай. По нему
ходили не все: местные били приезжих. От первой
назревающей драки я не уклонилась. Окруженная
подростками, схватила два кирпича и приготовилась к битве.
Заорала, что пусть они меня поколотят, но я буду защищаться
и лупить их этими кирпичами по башке. Драка рассосалась, и
меня там больше не трогали.
Шанхай стоял на болотистой почве и состоял из саманных
домиков и землянок. Условия жизни по любым меркам там
были жуткие.
Дорожка через Шанхай была узкая, по бокам – жидкая
грязь. Однажды я нечаянно уклонилась от нее, и мои галоши
утонули. Это была катастрофа. Без них здесь ходить было
нельзя. Я сняла пальто, положила его на дорожку, засучила
рукава и стала ковыряться в глине, пока не выудила галоши.
В новой школе я училась в третьей смене. Занятия
кончались в 10.30, поэтому домой я попадала в 12. Мама
очень боялась, как я буду возвращаться так поздно одна и в
таком районе, и выходила меня встречать. Это была чистая
комедия. Она никогда не запоминала условленного маршрута,
и мы чаще всего не встречались. Придя домой, я заставала
в тревоге бабушку, которая была готова к выходу: искать
меня и маму. И вот ночью мы порознь бродим по разным
дорогам, тат как я, естественно, тоже шла искать маму.
Воссоединение всех трех происходило не просто и не быстро.
Глупее вариант трудно было придумать, но переубедить
родителей оказалось невозможным.
Мне не сразу отдали документы в первой школе, и я
некоторое время ее посещала. Объясняя мотивы своих
поисков новой школы, я что-то мастерила. Мама
поинтересовалась, чем я занимаюсь, и выяснила, что я делаю
рогатку для участия в "стрельбе". Это ее убедило.
Новая школа находилась на улице Пастера. Кстати, почти
все окрестные жители именовали ее улицей Пастыря. В этой
школе шла интенсивная культурная жизнь. В ней действовали
различные кружки, в том числе художественного слова и
театральный, куда я немедленно вступила и попала в число
нескольких человек, входивших в городскую концертную
бригаду. Выступали мы обычно в госпиталях. С весны
регулярно ездили на Медео, где в каком-то особняке и
поместье был организован санаторий для выздоравливающих
военных. Об этом:
Весна в горах,
Машина мчится вверх.
Мы держимся за руки.
И море миндаля цветущего летит навстречу.
В августе нашу руководительницу Екатерину Ивановну
послали в садоводческий совхоз Горный Гигант, куда
попадает герой Юрия Домбровского перед арестом. Несколько
человек из нашей бригады поехали с ней.
Сады были разбиты по склонам глубокого ущелья, на дне его
текла речка Алматинка. Купаться в ней было нельзя: так
мощно было ее течение и холодна вода.
Мы работали в колхозе недели три, а потом нас отпустили,
разрешив взять с собой столько яблок и груш, сколько мы
хотим, то есть сколько можем унести.
И вот я набила плодами свою парусиновую сумку, сшитую
мамой, и ранним утром мы пешком отправились в город,
домой.
Часов в 12 у нас был обед. Мы ели роскошное, огромное,
величиной с небольшой арбуз, яблоко. Это был апорт – сорт,
которым славится Алмата. Я этот сорт – рассыпчатый,
сахаристый, сладкий – не люблю. А в саду, где мы работали и,
естественно, все, что можно, перепробовали, я нашла яблоню,
у которой в августе были спелые темно-лиловые, терпкие,
кисло-сладкие, удивительные плоды. Я такие особенно
люблю. Ни до, ни после, нигде и никогда, даже на
алматинском рынке я таких не встречала. Что это была за
яблоня, для меня до сих пор загадка.
И вот по горам мы пешком идем домой. Мне очень тяжело
нести вещи и фрукты. Я раздумываю, а потом начинаю
понемногу выбрасывать вещи, оставляя плоды, как большую
ценность (вообще-то, мы жили в Алмате голодно).
Когда мы добрались до Линий, у меня из вещей остался один
свитер, который я не решилась выбросить.
И вот подъезжают трамваи, переполненные, и я не в силах
влезть ни в один. Приходят, уходят, я пробую, но безуспешно.
Наконец, понимаю, что если не сяду в последний, то останусь
тут на ночь, так как идти через весь город у меня уже нету
сил.
Не помню, как я втиснулась в последний трамвай. Он довез
меня до вокзала, а дальше опять дорога пешком.. Домой я
попала часа в три ночи, меня никто не ждал, а сокровищ,
которые я принесла, тем более.
Так мне и запомнился этот путь в горах, когда я иду и через
некоторые промежутки времени что-то из вещей выкидываю,
бережно охраняя яблоки и груши.
Работа в горах была чудом. Сами сады, оптически
подвинутые к ним снежные вершины, краски и освещение
снегов, льда, меняющиеся в течение дня.
Утром - вода обжигающая с корочкой льда.
Вечером - смотрим в костер.
Яблоки, груши -
Их собираем неспешно.
Далеко внизу - речка.
Речка, речушка,
Как струишься ты,
Ты, реченька, болтушка,
Болтушка ты, игрушка.
Кругом тебя- кусты.
А я гляжу на снега в вышине,
Их переменчивый цвет завораживает меня.
Ожидаю ухода солнца -
Птица на дереве.
.
НИТЬ АРИАДНЫ
Каждую ночь мне снятся близнецы.
Один красный,
другой синий.
Две ниточки разного цвета
от сдвоенных зародышей
тянутся по всей квартире.
Я встаю и иду,
держась за упругую двойную нить.
Иногда хочется бросить ее,
но она притягивает
и приводит меня к шкафу.
Я перебираю правой рукой книги,
держась левой за красно-синий шнур.
Это неудобно,
и я пытаюсь оторвать левую руку
и заняться книгами обеими руками,
но шнур не отпускает меня
и уже тянет от шкафа.
Я успеваю только
вынуть из-за стекла скифские черепки
и положить их на пол.
Нить приводит меня в коридор,
вьется вокруг сапог,
я пытаюсь распутать ее
и долго топчусь на месте.
Я хочу уйти от всего этого,
но не удается.
Близнецы и их кровь -
- красно-синие шнуры -
- обладают магнетической силой.
Я просыпаюсь в постели
и только смутно помню
красно-синий вариант
моей ариадновой нити.
Утром
я обнаруживаю ключ
от входной двери,
вставленный в незапертый замок.
Иногда муж рассказывает мне
о моих ночных блужданиях,
и как он укладывает меня в кровать.
Обычно я ничего не помню.
И только изредка
вид,
вспышка,
отблеск сочетания синего с красным
вызывает во мне память
о неизбежных магнетических
близнецах.